|
|
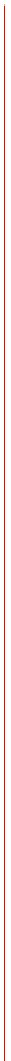
|
ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ - БЕЗ ЦЕНЗУРЫ
05.05.2003
ВСТУПЛЕНИЕ.
В 1990 году в русских газетах и
журналах стали появляться статьи, подписанные "израильский журналист
Роберт Давид". Они немало удивили читателя: таинственный "израильский
журналист" выступал против уверенно шедших к власти "демократов", не
верил, что с победой капитализма весь советский народ заживет, как в
Швейцарии, не считал, что нужно уничтожить или хотя бы расколоть "империю
зла" - Советский Союз, был против независимости Прибалтики, за продолжение
дружбы с Кубой и Ираком, и в то же время - за обновление режима, за
демократию и избираемость, за народную законность. Статьи появлялись в
разных изданиях - в "Нашем Современнике", "Литгазете", "Дне", "Правде",
"Комсомольской правде" и в ряде эмигрантских еженедельников.
Власти
пытались найти автора, союзная прокуратура возбудила против него дело.
Нескольким журналистам удалось установить его личность, но они согласились
сохранить тайну. Только через несколько лет стало известно, что под именем
"Роберт Давид" скрывался русско-израильский журналист и писатель Исраэль
Шамир. Он родился в Новосибирске, учился в физматшколе НГУ и СОАН,
мальчишкой в 60-е годы перебрался в Израиль, где стал известным автором.
Он работал во многих газетах, журналах и на радио, от Би-Би-Си в Лондоне
до "Гаарец" в Тель-Авиве, и во многих странах мира - в Англии, Японии,
Скандинавии, Африке, Индо-Китае, а в 1989 году Шамир приехал
корреспондентом влиятельной израильской газеты "Гаарец" в
Москву.
Человек, знакомый с Западом и влюбленный в Россию, он
приехал, полный оптимизма, но затем разочаровался в горбачевских реформах,
понял намерения демократов, не принял на веру их радужные предсказания. В
настоящем сборнике собраны его статьи – предупреждения, написанные в те
грозовые годы, когда решалась судьба России.
1990.
Я приехал
в Россию, плененный перестройкой. Мы, эмигранты, понимали ее по-своему, не
так, как советские люди. Эмиграция (и западное общественное мнение)
делилась на два лагеря: одни, "антисоветчики", считали перестройку -
комедией, инсценировкой КГБ, обманом Запада. На этой позиции стояли
Максимов, Буковский, Солженицын и многие другие. Они ненавидели Советский
Союз и коммунизм, и любые вести о переменах считали обманом. Буковский,
по-моему, дольше всех верил в кагэбэшный заговор, направленный на подрыв
мощи Запада. Другой лагерь, "просоветский", к которому относились западные
социалисты, коммунисты, гуманисты, преемники Рассела и Сартра (среди
эмигрантов их – нас - было немного), поддерживал в целом Советский Союз,
оправдывал и защищал его действия, но не мог смириться с глупостями
советского режима: ограничениями свободы творчества, преследованиями
художников и поэтов, отсутствием демократии. Этот лагерь принял слова
Горбачева за чистую монету и поверил в грядущее обновление советской
системы.
Я верил, что в результате перестройки возникнет
обновленный Советский Союз, образец не только для развивающихся, но и для
развитых стран, а нам, друзьям Советского Союза, не придется больше
стыдиться КГБ и ГУЛАГа. Как выяснилось, мы все - друзья и враги Советского
Союза – ошибались. Перестройка не была обманом, не стала путем к
обновлению. Она оказалась началом демонтажа социализма, началом крушения
системы, началом конца.
Но предвидеть это было нелегко. В отличие
от Нины Андреевой и консерваторов, я не был в восторге от всего, что
происходило в тогдашней России. Перестройка несла с собой свежий ветер
перемен. Как-то в библиотеке Стокгольма я открыл новые советские журналы
за 1987-88 года. Они меня потрясли - вместо обычной тягомотины я увидел
настоящие дискуссии, появились новые замечательные произведения - от
"Плахи" Айтматова до "Ночевала тучка золотая" Приставкина. Мне захотелось
в Россию, на мою старую родину, которая, казалось, возрождалась прямо на
глазах.
Я приехал в Москву, зачарованный своим видением
пробуждающегося гиганта. Перед отъездом меня предупреждали: Георг был
уверен, что меня-то, стреляного воробья, большевики на мякине не проведут
(он считал перестройку обманом, призванным разоружить Запад), Миша считал,
что постигнет меня здесь страшное разочарование и, прокляв гипербореев,
сбегу я под сень шатров Израиля, Додик - что сгину в близящейся
гражданской войне, мама - что сдохну с голоду, другие - что стану
антикоммунистом или покончу собой. Я толком не знал и не помнил России,
относил себя ко второму поколению - людям, выросшим в эмиграции, и приехал
в Россию, как на "старую родину" - так американцы называют родину предков,
откуда приехали их родители или деды. Я приехал с огромной любовью в
совершенно неизвестную мне страну.
Моей первой проблемой была
identity. Я уехал из Новосибирска за двадцать лет до возвращения, но не
чувствовал "Двадцать лет спустя". Я не узнавал давно покинутых мест.
Двадцать лет - половина моей жизни, и вырос я уже в эмиграции. Эта
эмиграция величала себя Третьей Волной, чтобы отделиться от Первой -
пореволюционной, дворянской, белогвардейской, и от Второй, послевоенной,
пленников и власовцев. Но кому - Третья, а для меня она всегда была
единственной и казалась вовсе не волной, но прекрасным архипелагом в
волнах Эгейского лукоморья, по которому так вольно носиться от Калипсо в
Лондоне к Цирцее в Мюнхене. Хотя я сроднился с Ближним Востоком, где к
хумусу примешивают лотос, я обнаружил, что русский язык поймал и держит
меня в своей сфере тяготения, как ловил он и других инородцев от Олжаса до
Булата. Я выбрал своей родиной острова русских колоний Парижа, Тель-Авива
и Нью-Йорка, и не верил, что - где-то есть другая, неэмигрантская
Россия.
И вдруг, как подлодка из-под льда, прорезалась из тумана и
мрака подлинная метрополия. Горбачев открыл ворота, и, моя давно забытая
мечта - вернуться - вдруг стала реальностью. Я взял жену и двух наших
мальчишек и поехал в эту незнакомую страну - мою родину.
Тут я
открыл - необычное ощущение! - что в России говорят на том самом русском,
на котором я говорил и писал все эти годы. Я считал русский языком
интимным, личным, языком своих друзей и врагов на маленьких островах
эмиграции, где все всех знают. И вдруг - оказывается, что это язык
огромной страны, и все запросто объясняют по-русски как пройти, как в
израильском городке Холоне или на Брайтон Биче возле Нью-Йорка. Я
настолько не привык к всеобщности русского, что по приезде громко и
изумленно помянул кузькину мать, увидев очередь в буфет в антракте. Мой
возглас, правда, смутил только меня. Это был не единственный случай, и я
до сих пор оглядываюсь, когда заслышу русскую речь.
Москва 1989
года показалась мне поначалу мало привлекательным городом, застроенным
современными жилыми домами - "Черемушками". Утешали узорчатые торты
сталинских небоскребов в стиле "Ампир по время чумы" и немногие
нежно-зеленые дореволюционные дома в пределах бульварного кольца. Улицы
были бесконечно широки, шире парижских бульваров и калифорнийских хайвэев,
и рассчитаны на быстрый ввод танков. Несколько старых домов, затерявшихся
среди новостроек, напоминали об историческом прошлом; сказочный храм
Покрова связывался с Катманду и Золотой Ордой; два солдата перед
карминовой копией ступенчатой пирамиды Джосера оставались памятью о
социалистической революции. Красных флагов в Москве было мало, меньше чем
в Тель-Авиве. Москва - город "современный", в несколько устаревшем, как и
слово "современный", стиле. Старая Москва была, видимо, легендарно хороша,
судя по сохранившимся домам. Жаль, что власти ее беспощадно перестраивали,
не заботясь о старине. Ленинграду больше повезло: утратив звание столицы,
он сохранил свой архитектурный ансамбль.
Описываемый мной мир
изменялся быстро, на моих глазах. Переход от спокойного социализма к
бурному капитализму многое изменил. Я описываю уходящую советскую
цивилизацию на изломе. При социализме, который я едва застал, обычные
москвичи жили в маленьких квартирах, за которые они почти ничего не
платили. Много было общественных площадей: зеленые парки и дворы вокруг
бетонных корпусов, большие столовые, кафе и рестораны, домовые кухни, в
осуществление мечты о равенстве и освобождении от быта. К сожалению, к
нашему приезду с бытом в Москве стало трудно, и я могу только
представлять, как славно жили русские в легендарное время "застоя", когда
все функционировало. Советский социализм отличался равенством, доктора
наук и вахтеры жили дверь в дверь на одной лестничной площадке, да и
зарплаты были почти одинаковыми, от маленькой в 150 до очень большой в 450
рублей. Докторам наук и интеллигенции равенство не нравилось - этим и
отличалась советская интеллигенция от русской, известной нам по классике,
которая стремилась к равенству.
Народ любил поворчать. Уборщица в
кафе ворчит, что посетители следят, в очереди ворчат, что кто-то лезет
вперед. В магазинах ничего нет, говорили москвичи. Видимо, они сравнивали
с легендарным застоем, когда "все было", или с западными магазинами,
потому что на самом деле, в их магазинах был малый, но необходимый набор
продуктов, как в португальской или лаосской лавке, куда больше, чем в
Восточной Африке. Были хлеб, масло, молоко, творог, сметана, по дешевой
цене, на базаре - овощи. Мясо в магазинах дешевое, но только грубо
разрубленное топором. Вдоль больших дорог крестьяне продавали молодую
картошку и лук. Придешь в гости - у всех стол ломится, тут тебе и окорока,
и рыба, и шашлыки на шампурах, и все жалуются, что, мол, "ничего
нет".
Рестораны социалистической Москвы были сказочными. Здесь
сохранились роскошные обеденные залы прошлого века, и меню не менялось с
тех пор, с его расстегаями с икрой и лососиной и какими-то неизвестными
мне разносолами. Когда мы приехали, обед на троих с шампанским и икрой
стоил три доллара. Понятно, что при таких ценах попасть в эти сказочные
дворцы было трудно - с самого утра перед ними выстраивались
очереди.
Социализм работал так: все было очень дешево, но трудно
достать. Социальный статус определял способность получить что-либо, а
деньги были - так, для украшения. К счастью, я приехал с высоким титулом
иностранного корреспондента, иначе мне никогда не удалось бы съесть этот
легендарный обед за доллар, потому что желающих было немало. Обед занимал
часа три. В советские рестораны ходят не для того, чтобы поесть, а чтобы
время провести; официанты считают, что клиент уже получил свыше меры, раз
смог попасть в ресторан, и кормить его ни к чему, и обслуживают очень
медленно и неохотно.
Затем стали появляться иностранные,
полуиностранные, частные рестораны. Большой разницы в качестве не было, но
и в эти гораздо более дорогие рестораны тоже трудно было попасть. Я долго
не мог понять, сколько на самом деле зарабатывают москвичи. Хотя все они
жаловались на маленькие зарплаты, денег у них куры не клевали. Зарплаты
действительно у москвичей были небольшими, но работали они (я не имею в
виду рабочих) еще меньше, да и числились на нескольких ставках
одновременно. Больше всего жаловались самые привилегированные люди. Милая
немолодая дама из Кировского балета встретила меня словами: "У нас голод",
- она была по пути в Америку, спасаясь от голода и погромов. "Не заметил".
– ответил я.
"А что вы ели сегодня?" - спросила она. Я перечислил:
борщ с водкой, икра с расстегаями, котлеты пожарские. "Наверно, за
валюту?" - "Нет, за рубли". Она рассмеялась. - "Вы - опасный человек, если
вы такое напишете, то нас не примут как беженцев в Америке".
Россия
начала перестройки была похожа на страны Третьего мира. Есть два Третьих
Мира: Третий Мир полусоциалистический, наподобие Танзании, Египта, Бирмы.
Это спокойный Третий Мир, где цены дешевые, жизнь благополучная, еды
вдоволь, местные продукты в изобилии, а иностранных вещей - мало, сутолоки
и деловой активности мало, личных машин мало и они старые. В этих странах
люди образованные получают ненамного больше, чем простые рабочие, мечтают
о Западе, французском кино и американских сигаретах, и легко становятся
диссидентами. Власти их преследуют, а Запад шлет посылки и упоминает по
радио. Есть Третий Мир полукапиталистический, - Кения, Таиланд, - в
котором много деловой активности, много нищих, проституции, мало местных
продуктов и много импортных, много "Мерседесов" последней марки и давка в
автобусах. В этих странах образованные люди грустят об утраченной
самобытности, возмущаются пропасти между бедными и богатыми, и уходят в
оппозицию. Власти пытают их и расстреливают, а Запад приветствует
ликвидацию коммунистических террористов.
Россия была похожа на
социалистический Третий Мир. Знакомые по Каиру черты - старые,
полуразваливающиеся такси (тоже "Лады"), выбоины в асфальте дорог, как на
захудалой трассе Серенгети, большие полупустые магазины с очередью в кассу
и очередью к прилавку. Глядя в недавнее прошлое, понимаешь, что жизнь у
советских людей была тихой и спокойной, в особенности вне
Москвы.
Когда мы приехали, главной темой разговора был только что
отгремевший Съезд Народных Депутатов, который все неотрывно смотрели по
телевидению. СНД был самым демократически избранным парламентом планеты во
все времена. На Западе давно научились управлять демократией, и выборы
используются лишь для упрочения власти правящего класса. На Западе нет
подлинного выбора, потому что там научились создавать мнимый выбор. Там
для избирательных кампаний нужны огромные средства, а они принадлежат
корпорациям и капиталистам.
В Советском Союзе до 1989 года тоже
умели, хотя не так искусно, управлять Советами. Но в последние годы
перестройки Горбачев и его соратники приняли за чистую монету
разглагольствования западного радио о свободе и демократии и решили
применить их в реальной жизни. (Я оставляю за рамками разговора, но не
исключаю, предположения об их сознательной диверсии). Поэтому были
проведены свободные, практически недирижированные выборы, как в СНД, так и
в Советы. Возникла неуправляемая структура. Западные парламенты
управляемы, потому что есть приводные ремни - партии и фракции. В СНД и
прочих Советах их не было, каждый депутат был свободен поступать по воле
совести.
СНД избирался двояко: частично - прямо, а частично - по
организациям вроде КПСС или Академии Наук. Именно по организациям были
избраны самые радикальные прозападные депутаты, академик Сахаров и его
единомышленники. В СНД сложился заметный корпус прозападных депутатов,
которые со временем получили название "демократов". Тогда они назывались
"Межрегиональный Блок" (МРГ). МРГ пользовался поддержкой Запада, а у
Запада были рычаги влияния в Советском Союзе. Западные радиостанции, на
которых мне довелось поработать, создавали общественное мнение. Запад
старался поддержать близких по духу депутатов, подбрасывая им деньги,
оргтехнику, лекционные туры, поездки за границу. Быть "за Запад" стало
очень выгодно. Таким образом СНД, свободный парламент, стал подвергаться
западному дирижированию. Но прозападных депутатов поначалу было не так
много, и еще долго в СНД сохранялся невероятный уровень
свободы.
Зрелище было фантастическое. Сама по себе идея тотальной
демократии хороша. Плохо то, что советские люди были наивны и невинны, и
не знали фактов жизни на Западе и в мире. Поэтому парламент потерял бразды
правления и в конце концов погиб.
Я не понимал советских людей. Мне
страшно нравился эксперимент с созданием СНД. Когда меня спрашивали:
"Нравится ли вам перестройка?" я отвечал утвердительно, и смешил всех.
Советским людям перестройка не нравилась, еще меньше им нравился Горбачев.
С перестройкой они связывали ухудшение жизни и рост дефицита. Я не знал,
что раньше советские люди жили довольно благополучно, потому что
приезжавшие к нам на Запад всегда жаловались на свое худое житье-бытье. Но
видимо, жизнь при Брежневе была куда лучше, а с перестройкой люди стали
жить хуже. К слову "перестройка" советские люди относились, как к слову
"коммунизм" двадцать лет назад, и в конструкциях "прорабы перестройки"
(Коротич) и "перестроечная лента" (она же "чернуха", например, "Маленькая
Вера") немало иронии. Реальностью перестройка стала только в 1989 года во
время Съезда Народных Депутатов (СНД).
До тех пор "перестройка"
была во многом очередным лозунгом, и так она и воспринималась в провинции.
В местах подальше, в моем родном Новосибирске, например, можно было
увидеть старомодные лозунги "Проведем в жизнь решения XIX партконференции"
или "Перестройка - это звучит гордо" и после августа 1991. До выборов в
СНД многим казалось, что все пройдет, как с обгоном Америки. Когда
полетели первые секретари обкомов, парторги перестали вывешивать лозунги
во славу перестройки, и началась перестройка на самом деле. Беда в том,
что она быстро вышла из-под контроля.
Советские люди были полны
ненависти и зависти к привилегированной "номенклатуре" с ее
распределителями и отдельными школами и больницами. Эмигрантов, привыкших
к социальному неравенству, это удивляло. По телевидению в кинотеатрах шел
документально-публицистический фильм "Особая зона", разоблачающий
"роскошную" жизнь советской элиты. Я не мог понять причин их праведного
гнева: дача, окруженная зеленой травкой, была не лучше обычного дома в
Пасадене или в Иерусалиме; привилегированная школа, где - о, ужас! - нет
рабочих детей, меня не удивила, равно как и магазин и столовая, куда не
пускают простых смертных. В этом Советская Россия была похожа на Запад.
Претензии борцов с привилегиями были тем более непонятны, что, не переводя
дыхания, они выступали против уравниловки. "У них (у номенклатуры) есть
колбаса", - таков был боевой клич популистов в начале перестройки. Колбаса
у них, может быть, была, но, за исключением самой-самой верхушки, жизнь
русского правящего класса была весьма скромной. В это время Ельцин поднял
знамя борьбы с привилегиями, на котором было начертано: "Отнимем колбасу у
номенклатуры".
Москвичи, которых я встречал, любили Ельцина, именно
по той причине, по которой я его не принимал - потому что он был врагом
Горбачева. Горбачев был для меня тогда воплощением преобразований и
реформ, для народа - символом очередей и отсутствия водки и сахара.
Ельцина каждый видел по-своему: так, пламенный социалист Борис Кагарлицкий
видел в нем залог социалистического пути развития. (Конечно, со временем и
он раскусил подмену). Но главным оружием Ельцина была зависть, призыв к
переделу и ликвидации привилегий. Сегодня, когда "новые русские" живут в
роскоши нефтяных шейхов, трудно даже вспомнить и поверить, какую злобу и
зависть вызывали в людях разговоры о колбасе в обкомовских распределителях
и о горкомовских дачах, видит Бог, довольно скромных.
В России была
монополия на идеологию, и она стала трескаться после съезда СНД. Власти
требовали осуждать привилегии, поддерживать "кооперативное движение", то
есть первых частников, осуждать Лигачева, старого консерватора. На уровне
символов это выглядело так - с одной стороны техническая и творческая
интеллигенция, поддерживающая генсека слева, а с другой стороны, справа -
консерваторы, отсталые типы, ретрограды, партийцы с привилегиями. Народу
не нравился Горбачев и его перестройка, но озвучить волю народа должна
была интеллигенция. В противовес Горбачеву она выдвинула не
антиперестроечную фигуру - скажем, Лигачева или Полозкова - но
суперперестроечную фигуру Ельцина.
У советской интеллигенции были
свои классовые интересы - она могла и хотела править. У нее были газеты,
радио, классовое единство, и игра в равенство ей надоела. Равенства в
советской России было на удивление много, и разговоры о привилегиях лишь
подчеркивали это основное равенство.
В это время в России появились
зажиточные люди. Их называли "кооператорами", хотя к кооперации они не
имели отношения. Им завидовать было более естественно. "Кооператорами"
были торгаши и бизнесмены с сильной мафиозной замесью, хотя в
перестроечной прессе создавался облик праведника, тщащегося накормить,
напоить и обуть Россию, и самому жить скромно, но достойно, так, как скоро
заживут все советские люди. Тут идеологическая интеллигенция нашла свою
первую материальную опору и получила сверхзадачу, как сказал бы
Станиславский: осудив привилегии номенклатуры с позиций равенства,
одобрить привилегии богатых и интеллигенции под флагом борьбы с
уравниловкой.
С этой сверхсложной задачей на уровне символов
справилась режиссер московского ТЮЗа Генриэтта Яновская. Она поставила
спектакль по только что вышедшей в России повести Михаила Булгакова
"Собачье сердце", который стал важной идеологической вехой. В системной
войне, происходившей в то время в России, идеология играла исключительную
роль, и перо можно было приравнять не к штыку, а к баллистической ракете,
а спектакль - к ядерной боеголовке. Спектакль был замечательный, смотреть
его было - одно удовольствие, но мораль спектакля "Собачье сердце" была
людоедской. Не случайно эта повесть не печаталась при советской власти.
Повесть Булгакова, написанная под влиянием жизненных неурядиц, была
талантливой, но морально ущербной, как некоторые книги Селина или маркиза
де Сада. Пролетарий, "народ", у Булгакова - это шелудивый пес, который
"заговорил", обрел человеческий облик благодаря интеллигенту, а затем - о,
ужас - покусился и на девятикомнатные квартиры интеллигента-демиурга. В
наказание интеллигент возвращает его в песье состояние. Хороший мужик -
это слуга, швейцар, дворник. Он прислуживает и с благодарностью берет
рубль на водку. Плохой жид-комиссар "мутит народ", побуждает пса заявить о
своих правах. Но интеллигент - хозяин жизни договоривается с боссом
комиссара, и остается хозяином положения. Тогдашний московский интеллигент
пришел в восторг от идеи - он, мол, хозяин жизни, а народ - быдло, пес,
"Шариков". Этот спектакль стал идеологическим знаменем "нового класса", а
поборники равенства были зачислены в Шариковы.
Несколько позднее я
увидел замечательный старый советский фильм "Берегись автомобиля", герой
которого, Деточкин, современный Робин Гуд, крадет машины у преуспевающих
представителей "нового класса", продает их, а деньги раздает по детским
домам. И тут я понял, что Шариков - это тот же Деточкин, только увиденный
глазами владельца украденной им машины. Для имущих неимущие - это быдло;
если быдло требует дележа, его следует вернуть в собачье состояние,
кастрировать (операция, проведенная профессором Преображенским над
взбунтовавшимся Шариковым, явно смахивает на кастрацию),
подавить.
Уже тогда, в 1989 году, я оказался в духовном вакууме:
интеллигенция цитировала "Собачье сердце", отстаивая право на неравенство.
Когда я заявлял о своем несогласии, меня автоматически зачисляли в
швондеры, как будто мир ограничен этой схемой. Социалистов-поборников
равенства в России 1989 года было меньше, чем айсбергов в
тропиках.
Сейчас, в постперестроечные годы, когда захирели "толстые
журналы", когда тиражи "Огонька", "Аргументов и фактов", "Знамени" упали,
когда интеллигенты вышли на панель торговать сигаретами и тряпками, можно
бы и позлорадствовать: ты этого хотел, Жорж Данден, ты надеялся, что в
мире сильных станешь еще сильнее, ты был готов давить слабых и превращать
их в кастрированных псов, если они требовали человеческих прав. Поделом
тебе и твоя нынешняя беда.
Ленин был прав, говоря о лакейской сути
интеллигенции: мои московские знакомые были готовы "идеологически
обслужить" побеждающий "новый класс", хотя шансов на место в рядах
победителей у них было мало. Они искренне становились на сторону сильных,
как лакей искренне защищает своего хозяина от посягательств простого люда.
Как они радовались крушению старого порядка с его эгалитарными
идеями!
Помню, когда журналы стали самостоятельными. В редакции
"Знамени" ликовали - наконец-то миллионы потекут им в карманы, минуя Союз
Писателей! Они хотели стать богатыми и счастливыми, обобрав других
писателей - vae victis! Они провели закон, позволивший редакторам газет,
до тех пор - таким же наемным служащим, как и вахтеры, стать полноправными
хозяевами многомиллионного имущества и влиять на общественное мнение. Так
прошла первая экспроприация новой буржуазной революции. Вчерашняя
собственность советских людей легла в карман новых хозяев. Но прошли два
года, бумага подорожала, тираж упал, большая часть сотрудников уволена,
основным доходом стала сдача служебных кабинетов в аренду. Им не удалось
стать профессорами Преображенскими, мир оказался построен по совсем другой
схеме.
А кооператоры, эта смешная публика, ходившая в тренингах
самых ярких цветов и кроссовках, оперилась, и при пирожках не осталась.
Они быстро поняли, что настоящие деньги лежат не на тернистом пути
конкуренции с госпредприятиями, не в том, чтобы кормить и одевать людей
своим трудом, а в спекуляции государственными товарами. Они объединились с
руководителями государственных предприятий и стали продавать по рыночной
цене государственную продукцию, купленную по твердым
ценам.
Примерно в это время мастер советского детектива Эдуард
Тополь написал роман "Завтра в России", вышедший в свет в 1992 году. Это
слабая книга, но в посредственных книгах яснее видны мифологемы века, чем
в талантливых. В романе Тополя ясно видны три мифа, бытовавших в пору
перестройки.
ПЕРЕСТРОЙКА - ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ
К
оглавлению
|
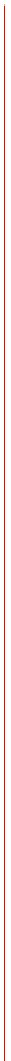
|
Политические
статьи Исраэля Шамира |